Оставьте заявку на консультацию!
Я свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы ответить на вопросы и согласовать время консультации.
Оставьте заявку на супервизию!
Я свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы ответить на вопросы и согласовать время супервизии.
Почему ребенок врет?
23.09.2025
Почему ребенок
врет?
25.09.2025
Почему дети иногда лгут? Этот вопрос волнует родителей. Часто ложь воспринимается как признак «плохого поведения». Однако с точки зрения психоанализа, детская ложь — это сложное явление, связанное с развитием речи, отношениями с близкими и бессознательными переживаниями. Прежде чем спешить ругать или «исправлять» ребёнка, полезно задуматься: что стоит за его неправдой и о чём она пытается нам сказать.
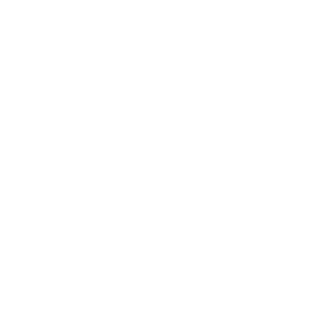
Геннадий Ледовский
Психоаналитик лакановской ориентации, психолог, преподаватель и исследователь
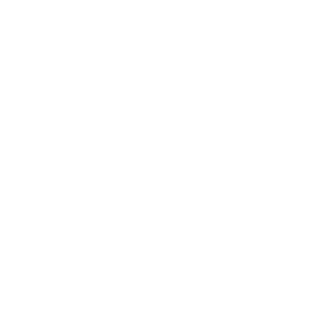
Геннадий Ледовский
Психоаналитик лакановской ориентации, психолог, преподаватель и исследователь
Почему дети иногда лгут? Этот вопрос волнует родителей. Часто ложь воспринимается как признак «плохого поведения». Однако с точки зрения психоанализа, детская ложь — это сложное явление, связанное с развитием речи, отношениями с близкими и бессознательными переживаниями. Прежде чем спешить ругать или «исправлять» ребёнка, полезно задуматься: что стоит за его неправдой и о чём она пытается нам сказать.
Ложь и развитие речи
Парадоксально, но способность солгать — это определённый этап развития ребёнка. Первый осознанный протест малыша («нет!») считается важной вехой, как и умение играть в прятки, не выдавая себя раньше времени. Аналогично и умение скрыть правду свидетельствует о новом шаге в развитии интеллекта. Ребёнок постепенно обнаруживает, что родители (взрослые) не читают его мысли и что можно успешно утаить часть правды. Это большой скачок вперёд в осознании отделённости своего внутреннего мира от знаний Другого (родителя). Не случайно пик склонности скрывать правду часто приходится на подростковый возраст, когда усиливается потребность в автономии.
В дошкольном же возрасте многие неточности в рассказах связаны не столько с умышленным обманом, сколько с богатой фантазией и неустоявшейся границей между воображением и реальностью. Маленький ребёнок может рассказывать выдумки или фантазировать, не до конца отличая, где кончается игра и начинается ложь. До определённого этапа развития требовать от ребёнка строгой правдивости просто рано. Он сначала учится говорить то, что переживает, а понятия объективной правды осваивает лишь постепенно.
В дошкольном же возрасте многие неточности в рассказах связаны не столько с умышленным обманом, сколько с богатой фантазией и неустоявшейся границей между воображением и реальностью. Маленький ребёнок может рассказывать выдумки или фантазировать, не до конца отличая, где кончается игра и начинается ложь. До определённого этапа развития требовать от ребёнка строгой правдивости просто рано. Он сначала учится говорить то, что переживает, а понятия объективной правды осваивает лишь постепенно.
Почему дети начинают врать?
Когда ребёнок подрастает и уже понимает разницу между правдой и ложью, вступают в силу психологические мотивы. Одна из распространённых причин — стремление избежать неприятных последствий и сохранить ощущение безопасности. Ребёнок тянется к приятному и старается уйти от неприятного, поэтому может приукрасить правду или отрицать неудобные факты. Фрейд называл это действием принципа удовольствия, который какое-то время доминирует над принципом реальности. Например, дошкольник может сказать, что «игрушку сломал не я», если боится наказания или огорчения родителей. Другой мотив — желание соответствовать ожиданиям Другого (значимого взрослого).
Ребёнок чутко улавливает, что именно от него хотят услышать. Если правда грозит разочаровать маму или папу, малыш порой предпочитает сказать то, что, по его мнению, их обрадует. Здесь ложь выступает как своеобразный подарок для родителя — попытка сохранить любовь и одобрение со стороны большого Другого (так лакановская теория называет фигуру символического авторитета, прежде всего родителя). Ложь может быть своеобразным посланием: в ней ребёнок как бы говорит «я хочу, чтобы ты любил меня и не сердился», даже если для этого приходится искажать факты.
Существует несколько форм детской неправды. Психоанализ различает как минимум три вида ситуаций, которые на первый взгляд выглядят как «ложь». Первый тип — «невинная ложь», по сути, детская фантазия. Например, ребёнок выдумывает воображаемого друга или рассказывает сказочные истории о себе. Здесь нет умысла обмануть — это игра воображения. Второй тип — ложь-фантазм, или регрессивная фантазия. В трудной, фрустрирующей ситуации (развод родителей, сильное разочарование) ребёнок может откатиться к более раннему способу мышления и начать выдавать желаемое за действительное. Так называемые «выдумщики» порой сами верят в созданную ими историю — это защитная фантазия, помогающая пережить невыносимую реальность. Третий тип — осознанная утилитарная ложь, когда ребёнок сознательно и хладнокровно искажает правду ради конкретной выгоды. Например, чтобы получить сладость, похвалу или избежать наказания, ребёнок преднамеренно вводит взрослого в заблуждение.
В детском психоанализе термин «ложь» чаще всего оставляют именно за этим третьим случаем — когда обман носит делинквентный (нарушающий правило) характер. На практике, конечно, эти виды переплетаются. Задача психоаналитика — распутать клубок и понять, какая потребность стоит за каждым конкретным обманом.
Ребёнок чутко улавливает, что именно от него хотят услышать. Если правда грозит разочаровать маму или папу, малыш порой предпочитает сказать то, что, по его мнению, их обрадует. Здесь ложь выступает как своеобразный подарок для родителя — попытка сохранить любовь и одобрение со стороны большого Другого (так лакановская теория называет фигуру символического авторитета, прежде всего родителя). Ложь может быть своеобразным посланием: в ней ребёнок как бы говорит «я хочу, чтобы ты любил меня и не сердился», даже если для этого приходится искажать факты.
Существует несколько форм детской неправды. Психоанализ различает как минимум три вида ситуаций, которые на первый взгляд выглядят как «ложь». Первый тип — «невинная ложь», по сути, детская фантазия. Например, ребёнок выдумывает воображаемого друга или рассказывает сказочные истории о себе. Здесь нет умысла обмануть — это игра воображения. Второй тип — ложь-фантазм, или регрессивная фантазия. В трудной, фрустрирующей ситуации (развод родителей, сильное разочарование) ребёнок может откатиться к более раннему способу мышления и начать выдавать желаемое за действительное. Так называемые «выдумщики» порой сами верят в созданную ими историю — это защитная фантазия, помогающая пережить невыносимую реальность. Третий тип — осознанная утилитарная ложь, когда ребёнок сознательно и хладнокровно искажает правду ради конкретной выгоды. Например, чтобы получить сладость, похвалу или избежать наказания, ребёнок преднамеренно вводит взрослого в заблуждение.
В детском психоанализе термин «ложь» чаще всего оставляют именно за этим третьим случаем — когда обман носит делинквентный (нарушающий правило) характер. На практике, конечно, эти виды переплетаются. Задача психоаналитика — распутать клубок и понять, какая потребность стоит за каждым конкретным обманом.
Ложь как симптом, а не порок
Взрослым важно изменить взгляд: умышленная ложь ребёнка — это не просто «дефект характера», а симптом, то есть сигнал о том, что в внутреннем мире малыша что-то происходит. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд отмечал, что некоторые случаи вранья у благовоспитанных детей несут особый смысл и должны скорее наводить воспитателей на размышления, чем вызывать гнев. Проще говоря, если ваш дошкольник, обычно честный и открытый, вдруг начинает хитрить и обманывать, стоит спросить себя: что побудило его к этому? Часто в основе детской лжи — сильное чувство любви или привязанности. Фрейд описал случай: семилетняя девочка солгала отцу о том, на что потратила деньги, — не из корысти, а из любви, боясь его огорчить. Подобные «ложные слова» нередко произносятся под влиянием избыточно сильных чувств — любви, ревности, тревоги — и становятся судьбоносными, если приводят к недоразумению между ребёнком и тем, кого он любит. Психоаналитик старается услышать правду, спрятанную в этой лжи: ведь обман и истина не полярные противоположности. Лакан прямо указывал, что ложь зачастую ярче высказывает скрытую правду желания, чем прямое признание. Обманывая, ребёнок нередко выражает правду своего бессознательного — своих страхов или стремлений — хоть и обходным путём. Поэтому задача не в том, чтобы уличить «лгунa» любой ценой, а в том, чтобы понять, о чём говорит его симптом.
Роль Другого и стремление к желанию
Ложь всегда разыгрывается во взаимоотношениях. Кому врёт ребёнок и зачем? Чаще всего — значимому взрослому (родителю, воспитателю), то есть тому самому большому Другому в лакановском смысле. От реакции этого Другого зависит очень многое. Если в семье царит атмосфера жёсткого контроля, строгих наказаний или непогрешимости, ребёнок может почувствовать, что правда небезопасна. Например, когда любой проступок встречается суровой карой, ложь становится для ребёнка убежищем: способом сохранить хотя бы немного свободы или уберечься от гнева родителей. Кроме страха, действует и желание Другого: дети хотят быть хорошими в глазах родителей, соответствовать их идеалу. Если мама постоянно хвалит «воспитанных, послушных детей», ребёнку может быть стыдно признаться в том, что он не идеален. Тогда он прячет «несовершенство» под ложью, рассчитывая сохранить любовь.
Важно понять, что ребёнок лжёт не в безвоздушном пространстве — он словно ведёт диалог с невидимым собеседником (фигурой Другого). Иногда детская неправда прямо указывает на позицию родителей: так, если ребёнок систематически приукрашивает действительность, возможно, он почувствовал, что его ценят только за успехи, и боится разочаровать. Или же наоборот — малыш убеждается, что родитель не всезнающ и не всемогущ (ведь обман «прокатил»), и тем самым испытывает границы знания и власти взрослого. В любом случае ложь — это элемент речи, обращённой к Другому, и в ней, помимо явного содержания, всегда есть скрытое послание. Родителю полезно спросить себя: каким меня видит мой ребёнок, если решил, что мне нужно солгать? Ответ на этот вопрос может быть некомфортным, но ценным.
Важно понять, что ребёнок лжёт не в безвоздушном пространстве — он словно ведёт диалог с невидимым собеседником (фигурой Другого). Иногда детская неправда прямо указывает на позицию родителей: так, если ребёнок систематически приукрашивает действительность, возможно, он почувствовал, что его ценят только за успехи, и боится разочаровать. Или же наоборот — малыш убеждается, что родитель не всезнающ и не всемогущ (ведь обман «прокатил»), и тем самым испытывает границы знания и власти взрослого. В любом случае ложь — это элемент речи, обращённой к Другому, и в ней, помимо явного содержания, всегда есть скрытое послание. Родителю полезно спросить себя: каким меня видит мой ребёнок, если решил, что мне нужно солгать? Ответ на этот вопрос может быть некомфортным, но ценным.
Симптом vs. синтом: когда смысла больше нет
Лакановский подход различает понятие симптома и особый термин синтом (sinthome). Симптом — это проявление бессознательного, которое можно попытаться расшифровать, понять его скрытый смысл (например, мы выясняем, что частые обманы ребёнка связаны с тем, что он тревожится из-за обстановки в семье или пытается таким образом привлечь внимание отца). Но есть и измерение синтома — того, что упорствует без объяснения, не поддаётся расшифровке и как бы просто есть. Говоря упрощённо, синтом — это его уникальный способ устроить свой внутренний мир, даже если окружающим это кажется странным или бессмысленным.
В каждом симптоме есть элемент, который не сводим к никакому толкованию — остаток, связанный с личным бессознательным наслаждением. Что это значит применительно к детской лжи? То, что не каждую неправду можно полностью рационально объяснить и устранить. Даже поняв многие мотивы, мы можем столкнуться с тем, что ребёнок врёт «просто потому что врёт» — словно это уже стало частью его способа взаимодействия с миром. Например, некоторым детям доставляет явное удовольствие обводить взрослых вокруг пальца, даже без прямой выгоды. Можно сказать, что для них ложь приобрела измерение синтома — своего рода искусство, игру, дающую им чувство контроля или удовольствие от риска. Избавиться от этого лишь воспитательными беседами трудно, да и не всегда нужно. Важно не спутать симптом с чистой моральной неисправностью.
Если мы видим в любом вранье только дурную привычку, мы рискуем пропустить глубокие причины. Но и впадать в другую крайность — искать тайный смысл абсолютно во всём — тоже нельзя. Часть человеческой психики всегда остаётся загадкой: как говорил Лакан, «истина имеет структуру вымысла», а значит, полностью отделить правду от вымысла невозможно. Наша задача — максимально понять послание симптома, признавая при этом, что какая-то доля загадки (синтом) остаётся. Ложь ребёнка может быть и значащим симптомом, и частично — его «стилем» реагирования, который не сводим к логике. Осознавая это, мы подходим к проблеме гибко и без излишнего морализма.
В каждом симптоме есть элемент, который не сводим к никакому толкованию — остаток, связанный с личным бессознательным наслаждением. Что это значит применительно к детской лжи? То, что не каждую неправду можно полностью рационально объяснить и устранить. Даже поняв многие мотивы, мы можем столкнуться с тем, что ребёнок врёт «просто потому что врёт» — словно это уже стало частью его способа взаимодействия с миром. Например, некоторым детям доставляет явное удовольствие обводить взрослых вокруг пальца, даже без прямой выгоды. Можно сказать, что для них ложь приобрела измерение синтома — своего рода искусство, игру, дающую им чувство контроля или удовольствие от риска. Избавиться от этого лишь воспитательными беседами трудно, да и не всегда нужно. Важно не спутать симптом с чистой моральной неисправностью.
Если мы видим в любом вранье только дурную привычку, мы рискуем пропустить глубокие причины. Но и впадать в другую крайность — искать тайный смысл абсолютно во всём — тоже нельзя. Часть человеческой психики всегда остаётся загадкой: как говорил Лакан, «истина имеет структуру вымысла», а значит, полностью отделить правду от вымысла невозможно. Наша задача — максимально понять послание симптома, признавая при этом, что какая-то доля загадки (синтом) остаётся. Ложь ребёнка может быть и значащим симптомом, и частично — его «стилем» реагирования, который не сводим к логике. Осознавая это, мы подходим к проблеме гибко и без излишнего морализма.
Что делать родителям?
Психоаналитик, рассуждая о детской лжи, не станет давать прямых советов или готовых рецептов воспитания. Каждый случай индивидуален — универсального решения нет. Вместо вопроса «как отучить?», психоанализ предлагает спросить: «о чём говорит нам эта ложь?» Прежде чем требовать от ребёнка признаний, стоит прислушаться к своему собственному отклику. Честно ответьте себе: Почему меня так злит или ранит то, что ребёнок врёт? Возможно, в его неправде задеты ваши тревоги — например, страх упустить контроль или сомнение в своём авторитете. Таким образом, первый шаг — понять, что на кону в этой игре правды и неправды для всей семьи.
Далее, вместо жёсткого допроса полезнее поговорить с ребёнком о его чувствах. Спокойно дав ему понять, что вы цените честность, можно спросить: «Ты боялся мне сказать правду?» или «Ты подумал, что я расстроюсь?» — и тем самым дать ребенку место высказать свои опасения. Такой разговор может открыть многое: ребёнок почувствует, что его слышат, а родитель — узнает, чего ребёнок на самом деле стремился достичь ложью (избежать гнева, получить внимание, защитить что-то ценное для себя). Ни в коем случае нельзя унижать или клеймить ребёнка («лгун», «обманщик») — это путь в никуда, вызывающий лишь озлобление или замыкание. Вместо этого стоит показать, что вы хотите разобраться вместе. Если же ложь становится частым и болезненным явлением, причиняя страдания и ребёнку, и близким, — возможно, имеет смысл обратиться за консультацией к детскому психологу или психоаналитику.
Психоанализ помогает прояснить, какое послание скрыто в поведении вашего ребенкаи как с ним быть. Главное — помнить, что детская ложь не берётся из пустоты: за ней всегда стоит история, которую нужно услышать. И порой внимательный слушатель способен сделать так, что у ребёнка пропадёт потребность скрывать правду — ведь его переживания принимают всерьёз.
Далее, вместо жёсткого допроса полезнее поговорить с ребёнком о его чувствах. Спокойно дав ему понять, что вы цените честность, можно спросить: «Ты боялся мне сказать правду?» или «Ты подумал, что я расстроюсь?» — и тем самым дать ребенку место высказать свои опасения. Такой разговор может открыть многое: ребёнок почувствует, что его слышат, а родитель — узнает, чего ребёнок на самом деле стремился достичь ложью (избежать гнева, получить внимание, защитить что-то ценное для себя). Ни в коем случае нельзя унижать или клеймить ребёнка («лгун», «обманщик») — это путь в никуда, вызывающий лишь озлобление или замыкание. Вместо этого стоит показать, что вы хотите разобраться вместе. Если же ложь становится частым и болезненным явлением, причиняя страдания и ребёнку, и близким, — возможно, имеет смысл обратиться за консультацией к детскому психологу или психоаналитику.
Психоанализ помогает прояснить, какое послание скрыто в поведении вашего ребенкаи как с ним быть. Главное — помнить, что детская ложь не берётся из пустоты: за ней всегда стоит история, которую нужно услышать. И порой внимательный слушатель способен сделать так, что у ребёнка пропадёт потребность скрывать правду — ведь его переживания принимают всерьёз.



