Оставьте заявку на консультацию!
Я свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы ответить на вопросы и согласовать время консультации.
Оставьте заявку на супервизию!
Я свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы ответить на вопросы и согласовать время супервизии.
Исследование аутизма
24.09.2025
Статья посвящена анализу аутизма как потенциально самостоятельной структуры в рамках лакановского психоанализа. Рассмотрим структурные отличия аутизма от психоза и наметим соответствующие клинические подходы. Особое внимание уделим роли цифровой среды, которая может становиться частью аутичного симптома, что переводит дискуссию о субъекте аутизма в актуальный контекст XXI века.
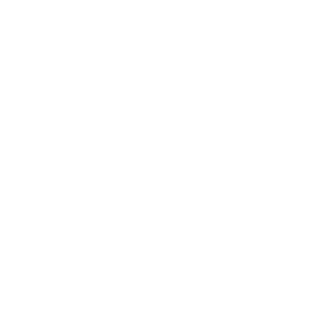
Геннадий Ледовский
Психоаналитик лакановской ориентации, психолог, преподаватель и исследователь
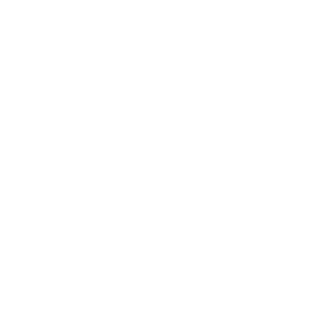
Геннадий Ледовский
Психоаналитик лакановской ориентации, психолог, преподаватель и исследователь
Статья посвящена анализу аутизма как потенциально самостоятельной структуры в рамках лакановского психоанализа. Рассмотрим структурные отличия аутизма от психоза и наметим соответствующие клинические подходы. Особое внимание уделим роли цифровой среды, которая может становиться частью аутичного симптома, что переводит дискуссию о субъекте аутизма в актуальный контекст XXI века.
Введение
Аутизм — одно из самых загадочных и сложных состояний в психологии развития. С точки зрения лакановского психоанализа этот феномен приобретает особое измерение, требуя пересмотра классических структур (невроз, психоз, перверсия) и постановки вопроса о возможной самостоятельной структуре аутизма. Если ортодоксальный психоанализ XX века был склонен относить аутизм к детским психозам, то современные исследователи (Ж.-К. Малеваль и др.) всё настойчивее говорят о сингулярности аутистического субъекта. Ключ к пониманию аутизма в лакановском ключе лежит через фундаментальные концепты: форклюзию (отвержение базового означающего), функцию Имени-Отца и Большого Другого, особое отношение аутистического субъекта к Реальному и своеобразное наслаждение (jouissance), закреплённое в аутичном симптоме, или, пользуясь термином позднего Лакана, — в синтоме. Разворачивание этих понятий в контексте аутизма позволяет не только уточнить, чем аутизм структурно отличается от психоза, но и определить, какие уникальные клинические подходы требуются в работе с ним.
Цель настоящей статьи - теоретически проанализировать аутизм в рамке лакановской клиники. Мы начнём с разбора теоретических оснований: как формируется субъект по Лакану и что происходит при выпадении символического Отца. Затем мы обсудим, можно ли говорить об особой аутистической форклюзии и чем она отличается от психотической. В клиническом разделе мы обратимся к случаям из литературы, включая самоописания людей с аутизмом, которые проливают свет на внутреннюю логику их выбора. Наконец, будет рассмотрено влияние современной цифровой среды: вместо односторонних социологических метафор мы критически оценим, как технология способна стать частью аутичного синтома и как это учитывать в терапии. Статья носит исследовательский характер: мы стремимся не столько дать окончательные ответы, сколько обозначить новое поле для размышлений о субъекте аутизма в XXI веке.
Цель настоящей статьи - теоретически проанализировать аутизм в рамке лакановской клиники. Мы начнём с разбора теоретических оснований: как формируется субъект по Лакану и что происходит при выпадении символического Отца. Затем мы обсудим, можно ли говорить об особой аутистической форклюзии и чем она отличается от психотической. В клиническом разделе мы обратимся к случаям из литературы, включая самоописания людей с аутизмом, которые проливают свет на внутреннюю логику их выбора. Наконец, будет рассмотрено влияние современной цифровой среды: вместо односторонних социологических метафор мы критически оценим, как технология способна стать частью аутичного синтома и как это учитывать в терапии. Статья носит исследовательский характер: мы стремимся не столько дать окончательные ответы, сколько обозначить новое поле для размышлений о субъекте аутизма в XXI веке.
Теоретический анализ
Субъект, Имя-Отца и форклюзия
Лакановская теория субъекта исходит из того, что человеческое существо конституируется через язык и Закон, олицетворяемые Большим Другим. В классическом варианте психического развития функция Отца играет решающую роль: через введение запрета на инцест Имя-Отца разрывает симбиотическую диаду мать-дитя и вводит третью инстанцию — порядок языка, культуры и социальных норм. Принятие ребёнком этого символического Отца (не в буквальном, а в структурном смысле) перестраивает его психику: устанавливаются границы между Я и Другим, желание перенаправляется с недоступного объекта на социально приемлемые цели, а бессознательное возникает как «дискурс Другого». Если же первичное означающее Отца форклюзировано - то есть отвергнуто и исключено из символического — субъективная структура оказывается иной. Лакан связывал механизм форклюзии Имени-Отца именно с психозом: когда фундаментальный закон не интегрирован, символический порядок зияет дырой, в которую прорывается хаотическое Реальное. Классический пример — паранойя Шребера, где отсутствие встроенного Закона приводит к тому, что Голос большого Другого слышится напрямую, в виде галлюцинаций. Таким образом, при психозе символические связки распадаются, и субъект сталкивается с вторжениями извне - голосами, непрошеными посланиями, бредовыми идеями, — которые он вынужден упорядочивать через собственные изобретения, например, бредовую идею как попытку «залатать» дыру в значении.
Вопрос об аутизме заключается в том, можем ли мы описать его теми же механизмами или требуется иная логика? Исторически аутизм трактовали как ранний отказ от внешней реальности, близкий к шизофреническому уходу в себя. Однако современные концепции предполагают, что в случае аутизма мы наблюдаем другой, более радикальный тип форклюзии. Исследователи говорят об аутистической форклюзии— отвержении не только Имени-Отца, но, возможно, и самой структуры языка как таковой. Л. Бреннер, развивая эту идею, пишет: «аутистическая форклюзия представляет собой более радикальную форму форклюзии, чем описанная Лаканом при психозе — это форклюзия Имени-Отца, помещаемая в рамку изначального вытеснения». Иными словами, если психотик отвергает базовый закон (но при этом остаётся в пространстве языка и пытается заполнить пробел навязчивыми означающими), то аутист, по-видимому, отвергает саму ситуацию обращения Другого, отказываясь от позиции адресата речи ещё до формирования полноценного бессознательного.
Сам Жак Лакан в своих немногочисленных высказываниях об аутизме указывал именно на это. Он отмечал, что, поскольку бессознательное — это дискурс Другого, у аутичного субъекта «в строгом смысле не формируется бессознательное в привычном виде; ведь он с самого начала уклоняется от обращения к Другому». Лакан даже парадоксально выразился: «аутичный ребёнок, говоря, не слышит аналитика, но что-то ему всё же следует сказать». Британский исследователь Генри Бонд, сам будучи аутичным и лаканианцем, формулирует это так: «Лакан утверждал, что аутист не имеет бессознательного; он, скорее, «говорим Реальным, одержим языком». Эта метафора означает, что речевые проявления аутичного человека не служат коммуникации, а являются частью его замкнутого режима существования. Язык здесь не выполняет функцию связки с Другим; вместо этого слова или звуки используются как объекты, обладающие вещной реальностью.
Можно утверждать, что аутистический субъект выбирает позицию вне дискурса Другого. Здесь уместно вспомнить выражение Лакана о «выборе структуры». Некоторые авторы называют аутизм - решением, принятым субъектом на заре жизни перед лицом некой непереносимой ситуации. Ж.-К. Малеваль прямо говорит: «я думаю, что аутизм связан с выбором субъекта… Это не обусловлено матерью или воспитанием». Разумеется, этот «выбор» не является осознанным — Лакан назвал бы его «безосновательным решением бытия» (insondable décision de l'être). Речь идет о том, что ребенок с врожденной предрасположенностью, столкнувшись с ранними трудностями в контакте, решает отступить от поля Другого, чтобы сохранить себя ценой разрыва коммуникации. Такой акт имеет глубокий этический порядок и требует от окружающих уважения. Таким образом, в лакановской перспективе аутизм — это не просто дефицит или «болезнь», а особый способ субъективного бытия со своей логикой и защитными конструкциями.
Вопрос об аутизме заключается в том, можем ли мы описать его теми же механизмами или требуется иная логика? Исторически аутизм трактовали как ранний отказ от внешней реальности, близкий к шизофреническому уходу в себя. Однако современные концепции предполагают, что в случае аутизма мы наблюдаем другой, более радикальный тип форклюзии. Исследователи говорят об аутистической форклюзии— отвержении не только Имени-Отца, но, возможно, и самой структуры языка как таковой. Л. Бреннер, развивая эту идею, пишет: «аутистическая форклюзия представляет собой более радикальную форму форклюзии, чем описанная Лаканом при психозе — это форклюзия Имени-Отца, помещаемая в рамку изначального вытеснения». Иными словами, если психотик отвергает базовый закон (но при этом остаётся в пространстве языка и пытается заполнить пробел навязчивыми означающими), то аутист, по-видимому, отвергает саму ситуацию обращения Другого, отказываясь от позиции адресата речи ещё до формирования полноценного бессознательного.
Сам Жак Лакан в своих немногочисленных высказываниях об аутизме указывал именно на это. Он отмечал, что, поскольку бессознательное — это дискурс Другого, у аутичного субъекта «в строгом смысле не формируется бессознательное в привычном виде; ведь он с самого начала уклоняется от обращения к Другому». Лакан даже парадоксально выразился: «аутичный ребёнок, говоря, не слышит аналитика, но что-то ему всё же следует сказать». Британский исследователь Генри Бонд, сам будучи аутичным и лаканианцем, формулирует это так: «Лакан утверждал, что аутист не имеет бессознательного; он, скорее, «говорим Реальным, одержим языком». Эта метафора означает, что речевые проявления аутичного человека не служат коммуникации, а являются частью его замкнутого режима существования. Язык здесь не выполняет функцию связки с Другим; вместо этого слова или звуки используются как объекты, обладающие вещной реальностью.
Можно утверждать, что аутистический субъект выбирает позицию вне дискурса Другого. Здесь уместно вспомнить выражение Лакана о «выборе структуры». Некоторые авторы называют аутизм - решением, принятым субъектом на заре жизни перед лицом некой непереносимой ситуации. Ж.-К. Малеваль прямо говорит: «я думаю, что аутизм связан с выбором субъекта… Это не обусловлено матерью или воспитанием». Разумеется, этот «выбор» не является осознанным — Лакан назвал бы его «безосновательным решением бытия» (insondable décision de l'être). Речь идет о том, что ребенок с врожденной предрасположенностью, столкнувшись с ранними трудностями в контакте, решает отступить от поля Другого, чтобы сохранить себя ценой разрыва коммуникации. Такой акт имеет глубокий этический порядок и требует от окружающих уважения. Таким образом, в лакановской перспективе аутизм — это не просто дефицит или «болезнь», а особый способ субъективного бытия со своей логикой и защитными конструкциями.
Аутистический субъект и Реальное
Чтобы глубже понять эту логику, рассмотрим, как аутичный ребенок соотносится с реальностью, телом и наслаждением. Если символическое измерение (язык, социальный закон) у него не интегрировано должным образом, а воображаемое (идентификация с образом другого) также ослаблено, то субъект фактически остается один на один с Реальным. Реальное у Лакана — это поток ощущений, не структурированный символически. Для маленького ребенка Реальное может быть переполнено хаотическими возбуждениями: ощущения тела, звуки, свет — всё это без символического «фильтра» переживается как перегрузка. Неудивительно, что многие аутичные дети, по свидетельствам родителей, остро реагируют на вторжения Реального: громкие звуки, прикосновения, непредсказуемые изменения.
В такой ситуации «чужеродное возбуждение грозит захлестнуть субъекта, и тот возводит вокруг себя крепость из ритуалов, монотонных звуков, фиксированных интересов». Так описывается типичное аутичное поведение: повторяющиеся действия, потребность в однообразии. Эти явления можно понять как способы локализации наслаждения. Под наслаждением (jouissance) в лакановском смысле понимается парадоксальное, часто болезненное удовольствие, связанное с психическим напряжением. В неврозе наслаждение регулируется запретами, в психозе оно может прорываться напрямую. В случае аутизма, где символический барьер практически отсутствует, возникает опасность катастрофического, разрушающего наслаждения - «захватывающего Реального». Поэтому аутичный ребенок самостоятельно конструирует себе защиту. Его повторяющиеся действия, особые интересы и аутостимуляции — это не бессмысленные стереотипии, а функциональные элементы аутичного устройства, приносящие успокоение и ограждающие от непредсказуемости. Так, неконтролируемые повторения в речи могут служить не средством общения, а способом разрядки возбуждения. «Речевые стереотипии и отказ откликаться — это защитный барьер против интрузии большого Другого»: он не впускает чужую речь, но и не дает субъекту раствориться в хаосе.
Лакан уделял особое внимание объектам аутичного наслаждения. Поскольку социальный Другой отвергнут, аутичный ребенок часто наделяет особым значением какой-либо объект или сенсорный образ, делая его центром своего мира. В современной терминологии такие объекты называют «аутистическими объектами» (Малеваль) или «объектами-дублями». Например, ребенок может часами крутить колесико — для наблюдателя это бессмысленно, но для субъекта это источник стабильного наслаждения, не требующего участия другого. Жан-Клод Малеваль предлагает различать «простые» и "сложные" аутистические объекты. Простые — это монотонные стимулы (вращающийся вентилятор, мерцающий огонек), которые замыкают ребенка в узком круге. Сложные объекты, напротив, могут стать мостом во внешний мир. Они тоже придуманы субъектом для укрощения тревоги, но со временем позволяют расширить контакт с реальностью.
Классический пример такого сложного объекта приводит Темпл Грандин. С детства она страдала от тревоги при прикосновениях, но искала физического давления для успокоения. Её «машина для объятий» - аппарат, имитирующий крепкое объятие, который она сконструировала для себя — и есть такой объект. Он не только дал ей облегчение (регулируя Реальное телесного наслаждения), но и стал трамплином к социальному развитию: интерес Грандин к механизмам перерос в профессию. Грандин подчёркивала, что фиксированные увлечения аутичных людей не следует подавлять; напротив, их важно использовать как ресурс. Её путь это подтверждает: аппарат-«объятие» послужил основой для символического признания её изобретения Другим.
Из этого примера видно, что, хотя аутичный субъект сторонится большого Другого, он не может полностью обойтись без минимальной связи с миром. Даже самый замкнутый ребенок найдет способ присутствовать - через объект, звук или действие. Парадокс аутизма в том, что субъект как бы делает себя объектом или наделяет внешний объект функцией Другого. Например, ребенок может предпочитать общаться с людьми через предмет, заменяя прямую связь субъект-Другой на ось субъект-объект-Другой. Аутичный ребенок замещает отсутствующее Имя-Отца особым «аутистическим объектом», выполняющим стабилизирующую функцию. Этот объект и есть материал, из которого изготавливается собственный синтом субъекта.
В такой ситуации «чужеродное возбуждение грозит захлестнуть субъекта, и тот возводит вокруг себя крепость из ритуалов, монотонных звуков, фиксированных интересов». Так описывается типичное аутичное поведение: повторяющиеся действия, потребность в однообразии. Эти явления можно понять как способы локализации наслаждения. Под наслаждением (jouissance) в лакановском смысле понимается парадоксальное, часто болезненное удовольствие, связанное с психическим напряжением. В неврозе наслаждение регулируется запретами, в психозе оно может прорываться напрямую. В случае аутизма, где символический барьер практически отсутствует, возникает опасность катастрофического, разрушающего наслаждения - «захватывающего Реального». Поэтому аутичный ребенок самостоятельно конструирует себе защиту. Его повторяющиеся действия, особые интересы и аутостимуляции — это не бессмысленные стереотипии, а функциональные элементы аутичного устройства, приносящие успокоение и ограждающие от непредсказуемости. Так, неконтролируемые повторения в речи могут служить не средством общения, а способом разрядки возбуждения. «Речевые стереотипии и отказ откликаться — это защитный барьер против интрузии большого Другого»: он не впускает чужую речь, но и не дает субъекту раствориться в хаосе.
Лакан уделял особое внимание объектам аутичного наслаждения. Поскольку социальный Другой отвергнут, аутичный ребенок часто наделяет особым значением какой-либо объект или сенсорный образ, делая его центром своего мира. В современной терминологии такие объекты называют «аутистическими объектами» (Малеваль) или «объектами-дублями». Например, ребенок может часами крутить колесико — для наблюдателя это бессмысленно, но для субъекта это источник стабильного наслаждения, не требующего участия другого. Жан-Клод Малеваль предлагает различать «простые» и "сложные" аутистические объекты. Простые — это монотонные стимулы (вращающийся вентилятор, мерцающий огонек), которые замыкают ребенка в узком круге. Сложные объекты, напротив, могут стать мостом во внешний мир. Они тоже придуманы субъектом для укрощения тревоги, но со временем позволяют расширить контакт с реальностью.
Классический пример такого сложного объекта приводит Темпл Грандин. С детства она страдала от тревоги при прикосновениях, но искала физического давления для успокоения. Её «машина для объятий» - аппарат, имитирующий крепкое объятие, который она сконструировала для себя — и есть такой объект. Он не только дал ей облегчение (регулируя Реальное телесного наслаждения), но и стал трамплином к социальному развитию: интерес Грандин к механизмам перерос в профессию. Грандин подчёркивала, что фиксированные увлечения аутичных людей не следует подавлять; напротив, их важно использовать как ресурс. Её путь это подтверждает: аппарат-«объятие» послужил основой для символического признания её изобретения Другим.
Из этого примера видно, что, хотя аутичный субъект сторонится большого Другого, он не может полностью обойтись без минимальной связи с миром. Даже самый замкнутый ребенок найдет способ присутствовать - через объект, звук или действие. Парадокс аутизма в том, что субъект как бы делает себя объектом или наделяет внешний объект функцией Другого. Например, ребенок может предпочитать общаться с людьми через предмет, заменяя прямую связь субъект-Другой на ось субъект-объект-Другой. Аутичный ребенок замещает отсутствующее Имя-Отца особым «аутистическим объектом», выполняющим стабилизирующую функцию. Этот объект и есть материал, из которого изготавливается собственный синтом субъекта.
Понятие синтома в контексте аутизма
Термин «синтом», отличный от «симптома», был введён Лаканом в его поздних семинарах. Лакан заметил, что в современном мире Имя-Отца уже не работает как единый стержень символического порядка. Фактически, каждый субъект вынужден изобретать свой уникальный узел, связывающий Реальное, Символическое и Воображаемое. Такой узел он и назвал синтомом . Прототипом синтома Лакан считал творчество Джеймса Джойса, которое, по его мысли, компенсировало у писателя пробел в отцовской метафоре и уберегло его от психотического распада.
Применяя эту концепцию к аутизму, можно сказать: аутистический синтом — это особое изобретение ребенка, призванное связать воедино его мир. Поскольку стандартное включение в символический порядок не произошло, ребенок вынужден очень рано сконструировать заменяющую опору. Мы видим, что аутичный синтом часто принимает форму особых интересов, ритуалов, привязанности к объектам. На первый взгляд они кажутся странными (знание наизусть расписания поездов, коллекционирование кусочков пластика), но эти феномены выполняют ключевую структурную функцию - служат ядром, вокруг которого выстраивается упорядоченное наслаждение и подобие идентичности. Вокруг синтома жизнь субъекта приобретает смысл для него самого. Более того, удачный синтом способен частично вписать субъекта в символический мир - на его собственных условиях. Как пишет Малеваль, «аутист может построить своего рода синтетического Другого… что позволит ему вступить в социальную связь, не отдавая свою jouissance целиком в поле Другого». Проще говоря, через свой интерес (музыку, математику) аутичный человек может найти канал к общению, не изменяя своей сути.
Важно подчеркнуть структурное отличие: у невротика симптом — это компромиссное послание Другому; у психотика - попытка залечить распад смысла. У аутиста же синтом — это изначальная конструкция, не столько послание, сколько опора для себя, позволяющая выдержать бытие. Например, мальчик, часами слушающий один и тот же звук фортепиано, возможно, «закрепляет» себя в бытии этим звуком. Если аналитик постепенно введёт слова, описывающие этот звук, у ребенка может начать формироваться символическое понимание. Но исходной точкой был звук как реальный объект, ставший элементом синтома.
Применяя эту концепцию к аутизму, можно сказать: аутистический синтом — это особое изобретение ребенка, призванное связать воедино его мир. Поскольку стандартное включение в символический порядок не произошло, ребенок вынужден очень рано сконструировать заменяющую опору. Мы видим, что аутичный синтом часто принимает форму особых интересов, ритуалов, привязанности к объектам. На первый взгляд они кажутся странными (знание наизусть расписания поездов, коллекционирование кусочков пластика), но эти феномены выполняют ключевую структурную функцию - служат ядром, вокруг которого выстраивается упорядоченное наслаждение и подобие идентичности. Вокруг синтома жизнь субъекта приобретает смысл для него самого. Более того, удачный синтом способен частично вписать субъекта в символический мир - на его собственных условиях. Как пишет Малеваль, «аутист может построить своего рода синтетического Другого… что позволит ему вступить в социальную связь, не отдавая свою jouissance целиком в поле Другого». Проще говоря, через свой интерес (музыку, математику) аутичный человек может найти канал к общению, не изменяя своей сути.
Важно подчеркнуть структурное отличие: у невротика симптом — это компромиссное послание Другому; у психотика - попытка залечить распад смысла. У аутиста же синтом — это изначальная конструкция, не столько послание, сколько опора для себя, позволяющая выдержать бытие. Например, мальчик, часами слушающий один и тот же звук фортепиано, возможно, «закрепляет» себя в бытии этим звуком. Если аналитик постепенно введёт слова, описывающие этот звук, у ребенка может начать формироваться символическое понимание. Но исходной точкой был звук как реальный объект, ставший элементом синтома.
Аутизм vs психоз: структурное различие
Из вышеизложенного можно синтезировать ключевые различия между аутизмом и психозом в лакановской перспективе:
- Отношение к Другому: Психотик страдает от Другого (вторжение голосов, идей). Аутист же избегает Другого, стараясь устранить саму ситуацию, в которой Другой чего-то от него хочет. Аутичное поведение не адресно - ребенок взаимодействует с вещами или частями другого, но не с целостной личностью.
- Форклюзия: При психозе форклюзировано Имя-Отца, но язык как система сохраняется. При аутизме же, как предполагается, форклюзирован сам «принцип символизации». Субъект отказывается от символического обмена в самом начале. Отсюда метафора: «аутисты — это психотики, которые сделали выбор не говорить». Хотя эта фраза упрощает, она указывает на суть: для аутиста речь без коммуникации — это стратегия избежать поглощения Другим.
- Проявления Реального: Психотическое Реальное носит характер интрузий (галлюцинации, ощущения воздействия), которые персонифицируются («они на меня воздействуют»). Аутичное Реальное — это скорее перегрузка от стимулов, наводнение ощущениями без персонификации. Аутист просто закрывается от любого воздействия в целом.
- Символические компенсации: Психотик строит бредовую систему, стремясь восстановить осмысленный порядок. Аутист создает индивидуальный порядок из предметов и ритуалов, который экзистенциально функционален, но не претендует на разделяемый другими смысл.
Клиника
Терапевтический подход, вытекающий из лакановского понимания аутизма, коренным образом отличается от поведенческих методик. Если аутизм — это особый выбор субъекта и его изобретение, то терапия должна исходить из этического уважения к этому выбору. Франсуаза Дольто отмечала, что ребенок имеет право на свою историю; попытки обойти болезненные узлы лишь консервируют проблему. Применительно к аутизму это означает: нельзя «ломать» аутичный симптом, насильственно втягивая ребенка в общение. Позиция аналитика — не стремится заставить аутичного ребенка стать «как все»; вместо этого он старается стать тем Другим, который слышит и принимает его особый язык. Терапевт занимает позицию не всезнающего учителя, а внимательного переводчика: он наблюдает, какие объекты или действия значимы для ребенка, и пытается наделить их смыслом, который ребенок мог бы разделить.
Классическим образцом такого подхода является разобранный Лаканом случай маленького Дика (описан Мелани Кляйн). Четырехлетний Дик почти не использовал речь для коммуникации, был безразличен к людям и зациклен на игре с поездом. В ходе терапии Кляйн не пыталась его «социализировать» напрямую, а вошла в его игровую вселенную. Заметив, что ребенок повторяет слова «поезд» и «станция», она интерпретировала эти объекты символически: большой поезд — «папа», станция — «мама», а маленький поезд (Дик) въезжает в маму-станцию. Эта мягкая интервенция — по сути, прививка отцовского символа - произвела поразительный эффект. У Дика впервые возникла тревога, и он стал искать взглядом мать. Лакан комментировал, что до этой сцены у ребенка «не было никакого бессознательного»; лишь через дискурс аналитика в его инертное Я начали прививаться первые символизации. Фактически, Кляйн привнесла элемент Имени-Отца в аутичный мир Дика, что пробудило воображаемо-символическую связь.
Принцип, иллюстрируемый этим случаем, таков: терапевт следует за ребенком, находит тот «островок», на котором сосредоточено его внимание, и тонко вводит новое значение. Этот подход прямо противоположен поведенческим методикам. Критическим примером служит история подростка с расстройством аутистического спектра, которого обучали вести себя «нормально» — здороваться, поддерживать разговор — без попыток понять его внутренний мир. Внешне он освоил фразы, но они оставались пустыми, а накопленная фрустрация привела к вспышке агрессии. Этот случай показывает, что механическое обучение без символической проработки может быть не просто бессмысленным, но и опасным. Если не затронуты глубинные субъективные смыслы, социальная мимикрия ничего не меняет в структуре.
Задача аналитика — стремится «установить связь» на языке самого ребенка. Успех приходит тогда, когда мы принимаем правила его игры. Это означает признание и уважение его способа быть: «Я признаю твой выбор быть таким, и готов слушать твой способ говорить». Не случайно Лакан называл аутизм «выбором»: удивительным решением маленького субъекта перед лицом непереносимого. Чтобы помочь ему, надо сперва принять реальность этого решения.
Классическим образцом такого подхода является разобранный Лаканом случай маленького Дика (описан Мелани Кляйн). Четырехлетний Дик почти не использовал речь для коммуникации, был безразличен к людям и зациклен на игре с поездом. В ходе терапии Кляйн не пыталась его «социализировать» напрямую, а вошла в его игровую вселенную. Заметив, что ребенок повторяет слова «поезд» и «станция», она интерпретировала эти объекты символически: большой поезд — «папа», станция — «мама», а маленький поезд (Дик) въезжает в маму-станцию. Эта мягкая интервенция — по сути, прививка отцовского символа - произвела поразительный эффект. У Дика впервые возникла тревога, и он стал искать взглядом мать. Лакан комментировал, что до этой сцены у ребенка «не было никакого бессознательного»; лишь через дискурс аналитика в его инертное Я начали прививаться первые символизации. Фактически, Кляйн привнесла элемент Имени-Отца в аутичный мир Дика, что пробудило воображаемо-символическую связь.
Принцип, иллюстрируемый этим случаем, таков: терапевт следует за ребенком, находит тот «островок», на котором сосредоточено его внимание, и тонко вводит новое значение. Этот подход прямо противоположен поведенческим методикам. Критическим примером служит история подростка с расстройством аутистического спектра, которого обучали вести себя «нормально» — здороваться, поддерживать разговор — без попыток понять его внутренний мир. Внешне он освоил фразы, но они оставались пустыми, а накопленная фрустрация привела к вспышке агрессии. Этот случай показывает, что механическое обучение без символической проработки может быть не просто бессмысленным, но и опасным. Если не затронуты глубинные субъективные смыслы, социальная мимикрия ничего не меняет в структуре.
Задача аналитика — стремится «установить связь» на языке самого ребенка. Успех приходит тогда, когда мы принимаем правила его игры. Это означает признание и уважение его способа быть: «Я признаю твой выбор быть таким, и готов слушать твой способ говорить». Не случайно Лакан называл аутизм «выбором»: удивительным решением маленького субъекта перед лицом непереносимого. Чтобы помочь ему, надо сперва принять реальность этого решения.
Современные примеры и технологии
В лакановской литературе описано множество случаев, где творческий подход аналитика позволял достигнуть прогресса. Например, Розин и Робер Лефорт в книге «Рождение Другого» показали, как девочке с тяжелым аутизмом постепенно удалось «родить» в себе фигуру Другого через игру и тонкие символические обмены. Во Франции до сих пор существуют психоаналитические центры, работающие с аутичными детьми по принципам Лакана, часто используя подход «практики в нескольких» (pratique à plusieurs), когда с ребенком взаимодействует команда специалистов, создавая многообразие «других», из которых ребенок сам выбирает, к кому проявить интерес.
Безусловно, психоаналитический подход не панацея. Он требует времени и выдержки. В эпоху, жаждущую быстрых результатов, он подвергается критике, а многие родители предпочитают прикладной анализ поведения, который действительно дает быстрые улучшения в адаптивных навыках. Такие техники не затрагивают субъективного ядра.
Цифровая эпоха, со своими размытыми границами авторитета и всепроникающей виртуальностью, ставит новые вопросы о судьбе Имени-Отца. Возможно, мы наблюдаем не только рост диагностики аутизма, но и реальные изменения в психической структуре новых поколений. Искусственный интеллект частично берет на себя функции знания и контроля, но не может заменить человеческого Отца в передаче смысла и любви. Тем не менее, он уже влияет на формирование субъекта, а значит, и на формы психопатологии.
В последние годы терапевты также пробуют вплетать в работу интерес аутичных детей к технологиям. Если ребенок поглощен планшетом, аналитик пытается войти через этот объект: обсуждать сюжеты, разыгрывать сценки, добавляя символические элементы во взаимодействие с гаджетом. Важная задача - постепенно перевести взаимодействие в межличностный план. Аналитик не конкурирует с виртуальным Другим (экраном), а включает его в процесс символизации.
Безусловно, психоаналитический подход не панацея. Он требует времени и выдержки. В эпоху, жаждущую быстрых результатов, он подвергается критике, а многие родители предпочитают прикладной анализ поведения, который действительно дает быстрые улучшения в адаптивных навыках. Такие техники не затрагивают субъективного ядра.
Цифровая эпоха, со своими размытыми границами авторитета и всепроникающей виртуальностью, ставит новые вопросы о судьбе Имени-Отца. Возможно, мы наблюдаем не только рост диагностики аутизма, но и реальные изменения в психической структуре новых поколений. Искусственный интеллект частично берет на себя функции знания и контроля, но не может заменить человеческого Отца в передаче смысла и любви. Тем не менее, он уже влияет на формирование субъекта, а значит, и на формы психопатологии.
В последние годы терапевты также пробуют вплетать в работу интерес аутичных детей к технологиям. Если ребенок поглощен планшетом, аналитик пытается войти через этот объект: обсуждать сюжеты, разыгрывать сценки, добавляя символические элементы во взаимодействие с гаджетом. Важная задача - постепенно перевести взаимодействие в межличностный план. Аналитик не конкурирует с виртуальным Другим (экраном), а включает его в процесс символизации.
Этическое измерение
Такой подход к аутизму неизбежно ставит вопрос: насколько мы принимаем инаковость аутичного субъекта? В противоположность моделям, ищущим «лекарство», психоанализ предлагает видеть в аутисте субъекта, а не носителя расстройства. Слова Джима Синклера, аутичного активиста: «Аутизм — это образ бытия. Невозможно отделить аутизм от человека» - созвучны лакановской идее, что синтом — это часть субъекта. Задача не в том, чтобы устранить его, а в том, чтобы найти способ с ним работать. В этом смысле лакановская клиника перекликается с современным идеями, настаивающим, что аутичные люди — не «сломанные», а носители особого сознания. Психоаналитик стремится облегчить страдания ребенка, но делает это, не насилуя его природу. Как писал Малеваль, аутизм — это позиция, схожая с непреклонным этическим решением, и потому терапевт должен проявлять такт, вступая в контакт с этой чуждой для себя реальностью.
Выводы
Рассмотрев аутизм через призму лакановского психоанализа, мы приходим к нескольким важным выводам. Прежде всего, аутизм предстаёт не как биомедицинское расстройство, а как особый способ бытия субъекта. Лакановские категории Реального, Символического и Воображаемого позволяют понять его логику: аутичный субъект укрывается в Реальном, жертвуя полноценным вхождением в символические отношения. Отвержение Имени-Отца влечет за собой отсутствие внутреннего закона, однако вместо психотического хаоса аутист выбирает тишину, создавая мир ритуалов и объектов, который служит ему альтернативным каркасом (синтомом).
Из этого следует, что имеется всё больше оснований говорить об аутизме как об отдельной структуре, а не разновидности психоза. Это, в свою очередь, требует особой клиники, основные принципы которой – работать через аутичный синтом, а не против него; искать пути символизации уникального опыта ребенка, а не навязывать ему чуждые нормы. По сути, в терапии мы предлагаем ребенку заново пережить опыт, который в норме даёт Имя-Отца: опыт появления третьей позиции, закона и смысла, но созданный индивидуально для него.
Современная цифровая эпоха создает новые контексты для аутизма. Мы воздерживаемся от упрощённых утверждений, но можно предположить, что структура большого Другого изменилась: в обществе больше нет монолитного источника истины. Возможно, поэтому мы наблюдаем рост случаев, когда ребенок отгораживается от непоследовательного Другого, выбирая свой тихий мир. Технологии стали частью жизни аутичных людей, часто выполняя роль того самого “аутистического объекта”. Машина может быть “идеальным другим” – предсказуемым и не требующим эмпатии. Однако она не может дать эмоционального отклика и подлинного признания. Поэтому технологии полезны как мост для коммуникации, но не могут заменить живого Другого.
В заключение подчеркнем: психоанализ предлагает видеть в аутизме фундаментальный вопрос о рождении субъекта, когда символический порядок дает сбой. Аутичный ребенок напоминает нам, что субъект нуждается в Другом, чтобы говорить и желать. Наша культура меняется, и психоанализ должен тонко приспосабливаться. Но одно остаётся неизменным: уважение к субъективности аутичного человека. Даже если он не говорит, что-то ему следует сказать – слово, способное достучаться сквозь тишину и установить связь, которая и есть начало субъекта.
Из этого следует, что имеется всё больше оснований говорить об аутизме как об отдельной структуре, а не разновидности психоза. Это, в свою очередь, требует особой клиники, основные принципы которой – работать через аутичный синтом, а не против него; искать пути символизации уникального опыта ребенка, а не навязывать ему чуждые нормы. По сути, в терапии мы предлагаем ребенку заново пережить опыт, который в норме даёт Имя-Отца: опыт появления третьей позиции, закона и смысла, но созданный индивидуально для него.
Современная цифровая эпоха создает новые контексты для аутизма. Мы воздерживаемся от упрощённых утверждений, но можно предположить, что структура большого Другого изменилась: в обществе больше нет монолитного источника истины. Возможно, поэтому мы наблюдаем рост случаев, когда ребенок отгораживается от непоследовательного Другого, выбирая свой тихий мир. Технологии стали частью жизни аутичных людей, часто выполняя роль того самого “аутистического объекта”. Машина может быть “идеальным другим” – предсказуемым и не требующим эмпатии. Однако она не может дать эмоционального отклика и подлинного признания. Поэтому технологии полезны как мост для коммуникации, но не могут заменить живого Другого.
В заключение подчеркнем: психоанализ предлагает видеть в аутизме фундаментальный вопрос о рождении субъекта, когда символический порядок дает сбой. Аутичный ребенок напоминает нам, что субъект нуждается в Другом, чтобы говорить и желать. Наша культура меняется, и психоанализ должен тонко приспосабливаться. Но одно остаётся неизменным: уважение к субъективности аутичного человека. Даже если он не говорит, что-то ему следует сказать – слово, способное достучаться сквозь тишину и установить связь, которая и есть начало субъекта.
Источники:
- Жак Лакан – Семинар III «Психозы», Семинар XI «Четыре фундаментальных понятия…», Семинар XXIII «Синтом» – основные положения о форклюзии, бессознательном, Имени-Отца и природе синтома.
- Melanie Klein (1930) – «The Importance of Symbol-Formation in Early Development» – описание случая Дика, анализ символической игры.
- Mario Goldenberg – «Autism: An Ethical Stake for Our Time» – разбор случая Дика с лакановскими комментариями.
- Jean-Claude Maleval (2009) – «L’autiste et sa voix» – концепция аутистического объекта, анализ свидетельств высокофункциональных аутичных взрослых.
- Temple Grandin (1995) – «Thinking in Pictures» – автобиография, идея «машины для объятий», призыв опираться на интересы аутичных детей.
- Henry Bond (The Guardian, 16 Apr 2012) – «What autism can teach us about psychoanalysis» – взгляд аутичного лаканианского психоаналитика, цитата Лакана о том, что аутист «говорим Реальным, одержим языком»
- Rosine и Robert Lefort (1980) – «Naissance de l’Autre» – клиническое описание терапии аутичной девочки, постепенное формирование Другого.
- Françoise Dolto – идея о праве ребенка на свою историю и необходимости говорить с ним честно о его переживаниях.



