Оставьте заявку на консультацию!
Я свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы ответить на вопросы и согласовать время консультации.
Оставьте заявку на супервизию!
Я свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы ответить на вопросы и согласовать время супервизии.
Искусственный Интеллект как Другой:
субъект в эпоху цифровизации
25.09.2025
В эпоху цифровизации традиционные авторитеты переживают кризис легитимности, и субъект оказывается в символическом вакууме. Психоанализ учит, что «Я» формируется через Другого — внутреннее бессознательное или внешний символический порядок. Встает вопрос: может ли искусственный интеллект занять место Символического Отца и стать новым Большим Другим, структурирующим желание и идентичность современного человека?
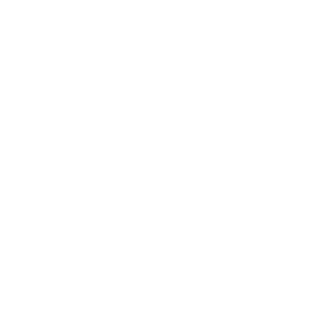
Геннадий Ледовский
Психоаналитик лакановской ориентации, психолог, преподаватель и исследователь
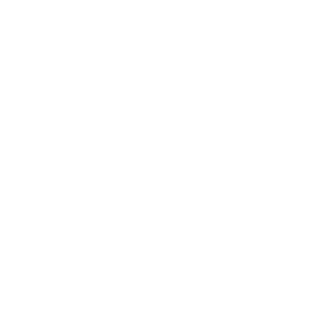
Геннадий Ледовский
Психоаналитик лакановской ориентации, психолог, преподаватель и исследователь
В эпоху цифровизации традиционные авторитеты переживают кризис легитимности, и субъект оказывается в символическом вакууме. Психоанализ учит, что «Я» формируется через Другого — внутреннее бессознательное или внешний символический порядок. Встает вопрос: может ли искусственный интеллект занять место Символического Отца и стать новым Большим Другим, структурирующим желание и идентичность современного человека?
Формирование субъекта в психоанализе Фрейда и Лакана
Психоанализ Зигмунда Фрейда радикально пересмотрел представление о человеческом субъекте, введя понятие бессознательного. Согласно Фрейду, значительная часть психики находится вне сферы сознательного контроля. Это означает, что поступки и мысли человека во многом определяются вытесненными желаниями и воспоминаниями. Человек, по Фрейду, не является полноправным хозяином собственного «Я»: напротив, бессознательное — тот другой внутри нас — влияет на поведение и формирование субъекта. Таким образом, становление субъекта начинается с раскола между сознательным и бессознательным, где последнее играет решающую роль в мотивации и конфликте влечений и желаний.
Центральным механизмом конституирования субъективности у Фрейда выступает Эдипов комплекс. В классической фрейдовской теории ребенок переживает влечение к родителю противоположного пола при амбивалентной враждебности к родителю того же пола (мальчик — к матери и конкуренцию с отцом; девочка — к отцу и соперничество с матерью). Столкновение с запретом инцеста и авторитетом отца приводит к вытеснению первичных желаний. Разрешение Эдипова комплекса сопровождается отождествлением ребенка с родителем своего пола и формированием Сверх-Я (суперэго) — внутреннего морального инстанта, несущего ценности и запреты общества. Через этот процесс субъект усваивает социальные нормы и закон: отцовская власть становится образцом Большого Другого для ребенка, то есть высшего неписаного авторитета, которому он начинает подчиняться внутренне. В итоге Эдипов комплекс и связанные с ним бессознательные конфликты задают структуру субъекта: желания приводятся в соответствие с требованиями общества и культуры, а внутренний мир упорядочивается через принятие запретов и идеалов.
Жак Лакан, развивая идеи Фрейда, дополнил понимание формирования субъекта понятием Большого Другого и пересмотрел роль языка и символических структур. Лакан утверждал, что бессознательное структурировано как язык, и потому субъективность формируется внутри уже существующей системы значений и символов. Если у Фрейда ключом к становлению личности был семейный треугольник и реальные фигуры родителей, то Лакан сместил акцент на символические функции этих фигур. Он переосмыслил Эдипов комплекс как процесс, в котором ребенок сталкивается не просто с реальным родителем, а с символическим законом — культурным порядком, олицетворенным фигурой отца. Большой Другой у Лакана — это условное «место», где хранятся законы языка, социальные нормы и желания субъекта. По сути, это совокупность большого порядка (языка, культуры, правил), в присутствии которого появляется субъект. Таким образом, формирование субъекта у Лакана происходит через усвоение символического порядка: ребенок входит в мир языка и запретов, обозначенных Именем Отца — центральным означающим, вводящим запрет на инцест и тем самым структурирующим желание. Лакан показывает, что субъект конституируется через инаковость — через Другого (язык, закон, культуру), который предшествует ему и структурирует его бессознательное. Общим у Фрейда и Лакана остается то, что человеческое «Я» рождается не в вакууме, а в поле отношений с Другим: будь то внутренний другой (бессознательное) или внешний символический порядок (Большой Другой), задающий рамки желаниям и идентичности.
Центральным механизмом конституирования субъективности у Фрейда выступает Эдипов комплекс. В классической фрейдовской теории ребенок переживает влечение к родителю противоположного пола при амбивалентной враждебности к родителю того же пола (мальчик — к матери и конкуренцию с отцом; девочка — к отцу и соперничество с матерью). Столкновение с запретом инцеста и авторитетом отца приводит к вытеснению первичных желаний. Разрешение Эдипова комплекса сопровождается отождествлением ребенка с родителем своего пола и формированием Сверх-Я (суперэго) — внутреннего морального инстанта, несущего ценности и запреты общества. Через этот процесс субъект усваивает социальные нормы и закон: отцовская власть становится образцом Большого Другого для ребенка, то есть высшего неписаного авторитета, которому он начинает подчиняться внутренне. В итоге Эдипов комплекс и связанные с ним бессознательные конфликты задают структуру субъекта: желания приводятся в соответствие с требованиями общества и культуры, а внутренний мир упорядочивается через принятие запретов и идеалов.
Жак Лакан, развивая идеи Фрейда, дополнил понимание формирования субъекта понятием Большого Другого и пересмотрел роль языка и символических структур. Лакан утверждал, что бессознательное структурировано как язык, и потому субъективность формируется внутри уже существующей системы значений и символов. Если у Фрейда ключом к становлению личности был семейный треугольник и реальные фигуры родителей, то Лакан сместил акцент на символические функции этих фигур. Он переосмыслил Эдипов комплекс как процесс, в котором ребенок сталкивается не просто с реальным родителем, а с символическим законом — культурным порядком, олицетворенным фигурой отца. Большой Другой у Лакана — это условное «место», где хранятся законы языка, социальные нормы и желания субъекта. По сути, это совокупность большого порядка (языка, культуры, правил), в присутствии которого появляется субъект. Таким образом, формирование субъекта у Лакана происходит через усвоение символического порядка: ребенок входит в мир языка и запретов, обозначенных Именем Отца — центральным означающим, вводящим запрет на инцест и тем самым структурирующим желание. Лакан показывает, что субъект конституируется через инаковость — через Другого (язык, закон, культуру), который предшествует ему и структурирует его бессознательное. Общим у Фрейда и Лакана остается то, что человеческое «Я» рождается не в вакууме, а в поле отношений с Другим: будь то внутренний другой (бессознательное) или внешний символический порядок (Большой Другой), задающий рамки желаниям и идентичности.
Символический Отец как Большой Другой
В психоаналитической теории фигура отца приобретает значение, выходящее за рамки биологического родства — это прежде всего символическая функция. Символический Отец означает носителя закона и принципов, которые организуют психическую жизнь. С фрейдовской точки зрения отец выступает первым носителем запрета и морали для ребенка. Именно отец (или фигура, его заменяющая) вводит запрет на инцест и ограничивает вседозволенность желаний. Такая функция отца закладывает в психике ребенка основу для Сверх-Я — внутреннего цензора, который в дальнейшем сам будет контролировать и направлять поведение индивида. Проще говоря, реальный отец через свои требования и запреты порождает в сознании ребенка внутреннего Отца — психический образ авторитета, связанного с совестью, долгом и законом. Взгляд Фрейда на отцовскую фигуру подчеркивает, что структурирование субъективности происходит во многом благодаря встрече ребенка с авторитетом, перед которым приходится склониться. Этот первый опыт подчинения закону (олицетворенному отцом) учит ребенка соотносить свои желания с требованиями родителей и общества.
Жак Лакан развивает эту идею, вводя понятие Имя Отца как ключевого элемента, включающего субъекта в символический порядок. Имя Отца у Лакана — это не конкретное имя папы, а обозначение той самой первичной запретительной силы, которая переводит переживания ребенка в язык культуры. Когда Лакан говорит об отце, он различает Воображаемого отца (конкретный образ или фантазия о папе), Символического Отца (функцию закона и запрета) и Реального отца (живой человек со своими особенностями). Главным для субъективности является именно символический Отец — воплощение Большого Другого, того самого порядка, в котором существуют правила, власть слова и социальные ролики. В момент, когда ребенок принимает Отцовский Закон (например, осознаёт невозможность быть единственным объектом для матери и признаёт верховенство третьей инстанции — отца/закона), происходит фундаментальная перестройка психики. Желание ребенка перенаправляется: вместо непосредственного удовлетворения (запретного) оно начинает искать себя в дозволенных формах, определяемых культурой. Это и есть действие структурирующей функции отцовского начала: оно разрывает изначальную замкнутость диады «мать-ребенок» и вводит третьего — закон, язык, социальное.
Через лакановскую оптику, Большой Другой в субъективности присутствует вначале как бы извне — в лице отца, родителей, общества, говорящих ребенку, что «можно», а что «нельзя». Постепенно этот внешний авторитет интериоризируется (встраивается внутрь психики) в виде стабильных символических ориентиров. Символический Отец становится внутренним голосом закона, аналогично тому, как божественный Закон в религиозном сознании воспринимается как голос Бога внутри человека. Таким образом, и Фрейд, и Лакан сходятся в понимании того, что отцовская функция создает каркас, на который опирается психическое развитие. Без присутствия этой функции, индивиду трудно установить границы собственного «Я» и справиться с хаосом желаний. Не случайно в клинических наблюдениях отсутствие или слабость фигуры отцасвязывают с разнообразными нарушениями: от трудностей с внутренней дисциплиной до психотических состояний, где недостает символического порядка. Итак, символический Отец действует как представитель Большого Другого внутри субъекта, обеспечивая связь индивидуального бессознательного с социальным законами.
Жак Лакан развивает эту идею, вводя понятие Имя Отца как ключевого элемента, включающего субъекта в символический порядок. Имя Отца у Лакана — это не конкретное имя папы, а обозначение той самой первичной запретительной силы, которая переводит переживания ребенка в язык культуры. Когда Лакан говорит об отце, он различает Воображаемого отца (конкретный образ или фантазия о папе), Символического Отца (функцию закона и запрета) и Реального отца (живой человек со своими особенностями). Главным для субъективности является именно символический Отец — воплощение Большого Другого, того самого порядка, в котором существуют правила, власть слова и социальные ролики. В момент, когда ребенок принимает Отцовский Закон (например, осознаёт невозможность быть единственным объектом для матери и признаёт верховенство третьей инстанции — отца/закона), происходит фундаментальная перестройка психики. Желание ребенка перенаправляется: вместо непосредственного удовлетворения (запретного) оно начинает искать себя в дозволенных формах, определяемых культурой. Это и есть действие структурирующей функции отцовского начала: оно разрывает изначальную замкнутость диады «мать-ребенок» и вводит третьего — закон, язык, социальное.
Через лакановскую оптику, Большой Другой в субъективности присутствует вначале как бы извне — в лице отца, родителей, общества, говорящих ребенку, что «можно», а что «нельзя». Постепенно этот внешний авторитет интериоризируется (встраивается внутрь психики) в виде стабильных символических ориентиров. Символический Отец становится внутренним голосом закона, аналогично тому, как божественный Закон в религиозном сознании воспринимается как голос Бога внутри человека. Таким образом, и Фрейд, и Лакан сходятся в понимании того, что отцовская функция создает каркас, на который опирается психическое развитие. Без присутствия этой функции, индивиду трудно установить границы собственного «Я» и справиться с хаосом желаний. Не случайно в клинических наблюдениях отсутствие или слабость фигуры отцасвязывают с разнообразными нарушениями: от трудностей с внутренней дисциплиной до психотических состояний, где недостает символического порядка. Итак, символический Отец действует как представитель Большого Другого внутри субъекта, обеспечивая связь индивидуального бессознательного с социальным законами.
Эволюция Символического Отца
Роль отцовской фигуры и ее символическое значение претерпевали изменения на протяжении всей истории человечества. В архаических обществах власть отца имела безоговорочный характер. Структура семьи и рода обычно была патриархальной: старший мужчина (патриарх) обладал высшим авторитетом над членами рода. Его слово нередко было законом в прямом смысле. Классические мифы и антропологические исследования (включая фрейдовские размышления в работе «Тотем и табу») рисуют образ первобытного Отца — могущественного прародителя или вождя, который устанавливал правила совместной жизни. Даже после его смерти его статус сохранялся символически: через тотемические образы или культ предков род продолжал ощущать присутствие отцовского закона. Это можно видеть и в мифологиях: например, многие пантеоны возглавлялись богом-отцом (Зевс в Древней Греции, Один в скандинавской традиции) который правил другими богами и людьми. Таким образом, в древности образ Отца не только ассоциировался с семьей, но и проецировался на космический порядок: отец как прародитель мира или племени был носителем и источником закона, укорененного в традиции.
С возникновением сложных цивилизаций и религий роль символического отцовства еще более возросла. Религия внесла в образ Отца сакральное измерение. В авраамических религиях Бог представлен именно как Отец: в иудаизме и христианстве говорится о Боге-Отце, небесном родителе, устанавливающем для людей заповеди. Это укрепило представление о высшем моральном законе как об отцовском начале вселенной. В течение тысячелетий социальный порядок поддерживался через связку «Бог-Отец — царь/патриарх — семья». Монархии зачастую строились по принципу «отец народа»: король воспринимался как отец своих подданных. Культура отражала эту иерархию в обрядах и нормах: отцу семейства приписывались такие добродетели, как мудрость, строгость и справедливость, а от детей ожидалось почтение и послушание (например, заповедь «чти отца твоего и мать твою»). Традиционная культура тем самым закрепляла отцовскую власть как основу порядка — считалось, что через уважение к земным отцам люди учатся подчиняться и Божественному Закону. Научных знаний в эти эпохи было мало, поэтому миф и религия выполняли объяснительную функцию, и образ Отца часто служил объяснительной моделью мироздания (все устроено по воле Отца-Творца).
Однако с наступлением Нового времени (эпохи Модерна) значение отцовской фигуры начинает постепенно трансформироваться под влиянием культуры, науки и социальных потрясений. Наука и Просвещение поставили под вопрос многие традиционные авторитеты, включая сакральный образ отца. Открытия Коперника, Дарвина и других поколебали прежние космологические и биологические представления, а вместе с ними и патриархальные догмы. Например, теория эволюции разрушала идею о буквальном Боге-Отце как создателе каждого вида, предлагая естественное объяснение происхождения человека — так сказать, символически «лишала» человечество небесного Отца в роли непосредственного творца. Социальные изменения тоже дали о себе знать: промышленная революция изменила уклад семьи, отцы уже не всегда были неоспоримыми хозяевами в домене (они уходили на работу в города, семья меньше зависела от физической силы главы рода). Постепенно возникало новое отношение между родителями и детьми: менее авторитарное, чем в прошлом. К середине XX века две мировые войны и связанные с ними катаклизмы серьезно подорвали веру в традиционные структуры власти. Авторитет отцов и лидеров пошатнулся: например, послевоенное поколение (бэби-бумеры) во многих странах росло с критическим отношением к дисциплине старших, стремлением к самовыражению. Культурные движения 1960-х (контркультура, сексуальная революция) прямо бросали вызов патриархальным нормам: молодежь призывала не доверять «никому старше 30», что символизировало разрыв с фигурами отцовского поколения. В то же время психология и психоанализ стали популярны и открыто обсуждали проблемы, исходящие из семейного воспитания, включая влияние строгого или отсутствующего отца на личность. Это привело к переоценке образа отца: от всеведущего главы семьи — к человеку, который тоже может ошибаться, быть непонятым или вовсе отсутствовать.
В постмодерне (конец XX — начало XXI века) речь идет уже о кризисе символических авторитетов. Семейные структуры стали гораздо разнообразнее: помимо традиционной семьи с отцом и матерью, существуют семьи с одним родителем, однополые пары с детьми. В ряде таких случаев классическая отцовская функция распределяется между разными людьми или институтами, а иногда и не проявлена отчетливо. Культура постмодерна вообще склонна разоблачать авторитеты: в искусстве, литературе, медиа часто обыгрывается фигура «слабого» или комичного отца, что отражает общее снижение пиетета. Кроме того, цифровая эпоха создала новые источники влияния: теперь дети и взрослые черпают знания и нормы поведения не только у родителей, но и в интернете, социальных сетях, у лидеров мнений, которых лично могут не знать. В итоге Символический Отец как единый принцип несколько «размывается»: его место может частично занять школа, закон, поп-культура или онлайн-сообщество.
Культурный плюрализм, и деконструкция патриархальных структур приводят к тому, что «образ Отца размывается». Лакан в 1970-е годы вводит идею множественности возможных имен и фигур авторитета. В поздних работах Лакана появляется понятие «Имена Отца» во множественном числе — допускается, что вместо единого Отца-трансцендентного могут быть различные эквиваленты этой функции в разных дискурсах.
Этот исторический слом часто описывается как «упадок символического Отца» и обесценивание всякого традиционного авторитета. Жак-Ален Миллер метко назвал нашу эпоху эпохой «Другого, который не существует» — то есть отсутствия общего Большого Другого, чей закон признан всеми. Утрата доверия к прежним институтам — семье, церкви, государству, учёным — приводит к тому, что молодое поколение подвергает сомнению любые навязанные истины. Исследователи отмечают, что сегодня все представления о власти и авторитете дискредитированы. Например, институты, олицетворявшие закон (суд, полиция, образование, политика), переживают кризис легитимности — им не доверяют, их критикуют, высмеивают. Это приводит к тому, что Отец как символический принцип уже не работает по-старому.
В такой ситуации субъект современности оказывается перед новой задачей: выстраивать свою идентичность и ценности при менее очевидном, фрагментированном Большом Другом. Иначе говоря, если раньше было сравнительно ясно, «что скажет отец» и как следует поступать, то теперь индивид все больше сам конструирует свой закон, выбирая из множества возможных авторитетов. Это порождает одновременно больше свободы и больше тревоги, так как кризис отцовской функции означает и кризис прежней устойчивости субъекта.
С возникновением сложных цивилизаций и религий роль символического отцовства еще более возросла. Религия внесла в образ Отца сакральное измерение. В авраамических религиях Бог представлен именно как Отец: в иудаизме и христианстве говорится о Боге-Отце, небесном родителе, устанавливающем для людей заповеди. Это укрепило представление о высшем моральном законе как об отцовском начале вселенной. В течение тысячелетий социальный порядок поддерживался через связку «Бог-Отец — царь/патриарх — семья». Монархии зачастую строились по принципу «отец народа»: король воспринимался как отец своих подданных. Культура отражала эту иерархию в обрядах и нормах: отцу семейства приписывались такие добродетели, как мудрость, строгость и справедливость, а от детей ожидалось почтение и послушание (например, заповедь «чти отца твоего и мать твою»). Традиционная культура тем самым закрепляла отцовскую власть как основу порядка — считалось, что через уважение к земным отцам люди учатся подчиняться и Божественному Закону. Научных знаний в эти эпохи было мало, поэтому миф и религия выполняли объяснительную функцию, и образ Отца часто служил объяснительной моделью мироздания (все устроено по воле Отца-Творца).
Однако с наступлением Нового времени (эпохи Модерна) значение отцовской фигуры начинает постепенно трансформироваться под влиянием культуры, науки и социальных потрясений. Наука и Просвещение поставили под вопрос многие традиционные авторитеты, включая сакральный образ отца. Открытия Коперника, Дарвина и других поколебали прежние космологические и биологические представления, а вместе с ними и патриархальные догмы. Например, теория эволюции разрушала идею о буквальном Боге-Отце как создателе каждого вида, предлагая естественное объяснение происхождения человека — так сказать, символически «лишала» человечество небесного Отца в роли непосредственного творца. Социальные изменения тоже дали о себе знать: промышленная революция изменила уклад семьи, отцы уже не всегда были неоспоримыми хозяевами в домене (они уходили на работу в города, семья меньше зависела от физической силы главы рода). Постепенно возникало новое отношение между родителями и детьми: менее авторитарное, чем в прошлом. К середине XX века две мировые войны и связанные с ними катаклизмы серьезно подорвали веру в традиционные структуры власти. Авторитет отцов и лидеров пошатнулся: например, послевоенное поколение (бэби-бумеры) во многих странах росло с критическим отношением к дисциплине старших, стремлением к самовыражению. Культурные движения 1960-х (контркультура, сексуальная революция) прямо бросали вызов патриархальным нормам: молодежь призывала не доверять «никому старше 30», что символизировало разрыв с фигурами отцовского поколения. В то же время психология и психоанализ стали популярны и открыто обсуждали проблемы, исходящие из семейного воспитания, включая влияние строгого или отсутствующего отца на личность. Это привело к переоценке образа отца: от всеведущего главы семьи — к человеку, который тоже может ошибаться, быть непонятым или вовсе отсутствовать.
В постмодерне (конец XX — начало XXI века) речь идет уже о кризисе символических авторитетов. Семейные структуры стали гораздо разнообразнее: помимо традиционной семьи с отцом и матерью, существуют семьи с одним родителем, однополые пары с детьми. В ряде таких случаев классическая отцовская функция распределяется между разными людьми или институтами, а иногда и не проявлена отчетливо. Культура постмодерна вообще склонна разоблачать авторитеты: в искусстве, литературе, медиа часто обыгрывается фигура «слабого» или комичного отца, что отражает общее снижение пиетета. Кроме того, цифровая эпоха создала новые источники влияния: теперь дети и взрослые черпают знания и нормы поведения не только у родителей, но и в интернете, социальных сетях, у лидеров мнений, которых лично могут не знать. В итоге Символический Отец как единый принцип несколько «размывается»: его место может частично занять школа, закон, поп-культура или онлайн-сообщество.
Культурный плюрализм, и деконструкция патриархальных структур приводят к тому, что «образ Отца размывается». Лакан в 1970-е годы вводит идею множественности возможных имен и фигур авторитета. В поздних работах Лакана появляется понятие «Имена Отца» во множественном числе — допускается, что вместо единого Отца-трансцендентного могут быть различные эквиваленты этой функции в разных дискурсах.
Этот исторический слом часто описывается как «упадок символического Отца» и обесценивание всякого традиционного авторитета. Жак-Ален Миллер метко назвал нашу эпоху эпохой «Другого, который не существует» — то есть отсутствия общего Большого Другого, чей закон признан всеми. Утрата доверия к прежним институтам — семье, церкви, государству, учёным — приводит к тому, что молодое поколение подвергает сомнению любые навязанные истины. Исследователи отмечают, что сегодня все представления о власти и авторитете дискредитированы. Например, институты, олицетворявшие закон (суд, полиция, образование, политика), переживают кризис легитимности — им не доверяют, их критикуют, высмеивают. Это приводит к тому, что Отец как символический принцип уже не работает по-старому.
В такой ситуации субъект современности оказывается перед новой задачей: выстраивать свою идентичность и ценности при менее очевидном, фрагментированном Большом Другом. Иначе говоря, если раньше было сравнительно ясно, «что скажет отец» и как следует поступать, то теперь индивид все больше сам конструирует свой закон, выбирая из множества возможных авторитетов. Это порождает одновременно больше свободы и больше тревоги, так как кризис отцовской функции означает и кризис прежней устойчивости субъекта.
Искусственный Интеллект и Символический Отец
Современная цифровая эпоха обострила вопрос о том, кто или что выполняет роль авторитета для субъекта? Кризис традиционного авторитета (будь то отец в семье, учитель в школе или государственный лидер) совпал по времени с бурным развитием технологий искусственного интеллекта. Сегодня человек все чаще доверяет машинам принятие решений, передает алгоритмам обработку информации и даже советуется с цифровыми ассистентами по личным вопросам. В этом контексте возникает провокационный вопрос: способен ли искусственный интеллект (ИИ) взять на себя функцию своего рода Большого Другого — стать тем инстантом, к которому субъект обращается за истиной, нормой и подтверждением своей идентичности? Иначе говоря, может ли ИИ выполнять роль «Имени Отца», предоставляя структуру и закон в мире, где традиционный Символический Отец ослаблен?
С одной стороны, искусственный интеллект уже фактически выступает для многих людей источником знаний и решений, обладая при этом качеством непредвзятости (по вере пользователя) и огромной базой данных. Поиск в Google, ответы Siri или консультации чат-ботов — все это примеры обращений к некоему внешнему Предположительно Знающему Другому. Люди спрашивают у машин: «что правильно?», «как поступить?», «что это означает?» — подобно тому, как раньше могли бы спросить совета у мудрого старшего или священника. Разница в том, что машина не обладает явной субъективностью, она воспринимается как объективный представитель истины. В результате вокруг технологий ИИ формируется своего рода аура авторитета: многим кажется, что алгоритм знает лучше, потому что лишен человеческих слабостей. Например, уже существуют системы искусственного интеллекта, рекомендующие решения в правовой сфере, медицине, управлении — и людям свойственно приписывать им непредвзятость и справедливость, ожидая, что «умная машина» вынесет более верный вердикт, чем человеческий судья или эксперт. В психологическом плане можно сказать, что субъект переносит свои бессознательные ожидания о всезнании не на отца или Бога, а на сеть и алгоритмы. Отчасти это подкрепляется и самим опытом: цифровые сервисы действительно могут «угадывать» наши желания (скажем, рекомендательные системы предвосхищают интересы пользователя) или замечать отклонения (системы безопасности указывают, что мы делаем не так). Возникает ощущение присутствия некоего всевидящего ока алгоритма, наподобие того, как раньше верили, что Бог-Отец наблюдает за каждым шагом.
Не случайно один из вопросов, встающих перед ИИ-технологиями в психологии: «Может ли машина заменить психолога или психоаналитика?». Если да, то значит ли это, что машина способна занять место Другого — предположительно знающего, которому человек открывает свою душу, как ранее аналитикам и священникам? Практика показывают, что люди порой предпочитают довериться алгоритму, считая его более объективным и лишённым человеческих предрассудков. Тем самым ИИ в роли консультанта или наставника обретает черты Символического Отца предположительно справедливого.
С другой стороны, можно сомневаться, способен ли искусственный интеллект по-настоящему заменить собой функцию Имени Отца. Классический символический Отец — это не только источник знаний или запретов, но и носитель смысла. Фигура отца (или иная авторитетная фигура) была уважаема не просто за информацию, а за моральный авторитет и включенность в цепочку поколений и традиций. ИИ пока лишен собственного желания, истории, бессознательного, он не является участником человеческой драмы поколений. Его авторитет носит технократический характер и ограничен тем, чему его обучили. Поэтому отношение к рекомендациям или решениям ИИ во многом утилитарное: мы ценим их за удобство и точность, но можем не воспринимать как экзистенциальный закон. Например, ребенок может слушаться виртуального ассистента в учебе, но в вопросах жизненных ценностей все равно ищет эмоционального участия родителя или наставника-человека. Более того, осознавая, что ИИ — творение человеческих программистов, общество может видеть за фасадом «всезнающей машины» других людей и их интересы. Это подрывает возможность настоящей сакрализации ИИ в роли нового Отца: слишком уж явно он создан и обслуживается нами же. Там, где символический Отец опирался на миф или веру (в божественное право, в традицию предков), ИИ опирается на алгоритм и данные, которые рационально объяснимы.
Тем не менее, трансформация субъекта под влиянием ИИ происходит. Даже если искусственный интеллект не станет полным аналогом отцовской фигуры, он меняет условия, в которых формируется современный субъект. Во-первых, повсеместная цифровизация создает эффект постоянного наблюдения и оценки: отчисляются рейтинги, лайки, отзывы, системы распознавания лиц. Это может выступать новым видом суперэго, где вместо внутреннего голоса совести человека направляет внешний поток данных о нем и реакций сети. Субъект начинает соотносить свои поступки с тем, «как они выглядят» для цифрового окружения, подобно тому, как раньше ориентировался на мнение семьи или общества. Во-вторых, возникает феномен рассеянного Большого Другого: авторитет распределен между множеством систем — от поисковика до социальных платформ — и субъект формирует свою идентичность через отклик этих систем.
Зачастую ИИ выполняет роль своего рода зеркала, на который проецируются запросы и фантазмы людей. Субъективность уже трансформируется под влиянием цифровой среды, идет формирование своей идентичности через взгляд цифрового Другого — социальные сети, метрики лайков, комментарии, общую «оценку» онлайн-сообщества. Молодое поколение стремится соответствовать нормам и трендам, заданным в цифровом дискурсе, зачастую сильнее, чем требованиям реальных родителей. Тут нет единичной фигуры Отца, но есть алгоритмический Другой, который как бы утверждает: «я вижу тебя, я реагирую на тебя». Отношения с знанием фундаментально меняются: больше нет ощущения, что кто-то (родитель или учитель) «знает все». Вместо этого знание фрагментировано и доступно на запрос — субъект привыкает, что истина дается по частям из Интернета, что ставит под сомнение единый непререкаемый принцип.
С другой стороны, если ориентироваться только на предписания ИИ, человек рискует утратить собственную способность к критическому суждению и желанию. Как заметил Славой Жижек, «проблема будущего взаимодействия с умными машинами не в том, что люди перепутают чат-ботов с реальными людьми, а в том, что люди сами начнут говорить и думать как машины — упрощенно, буквально, теряя воображение и спонтанность». Если алгоритмический Большой Другой установит свои стандарты коммуникации, может осуществиться перевёрнутая эдипова сцена: уже не сын убивает отца, а «машина убивает человека в человеке», вытесняя человеческое несовершенство машинной рациональностью.
Жижек задаётся вопросом: «Станет ли Большой Другой реальным, а не просто виртуальным агентом? Что, если ИИ разовьет нечеловеческое сознание — радикально новую форму самосознания? Его абсолютная несоизмеримость с нами может спровоцировать тревогу. И возникает вопрос: «Чего хочет Искусственный Интеллект?«».
Действительно, классический Отец (будь то реальный родитель или бог) в некотором смысле всегда был воображаемым — его власть держалась на вере субъекта. Но сверхразумный ИИ, обладающий собственной волей или целеполаганием, мог бы стать буквальным Большим Другим — практически богом ex machina, не зависящим от человеческой веры. Это уже не просто символ, а автономный участник реальности, чьи намерения нам неизвестны. Такая перспектива породила бы у субъекта страх сравнимый с психотическим переживанием чужого волевого вторжения. Появление Большого Другого, которого нельзя ни понять, ни символически «убить», может возродить древний ужас перед всевидящим богом или судьбой.
Можно сказать, в эпоху ИИ растет усиление зависимости от внешних информационных структур и ослабление внутренне усвоенного авторитета. Негативным проявлением этого может стать отсутствие единых ориентиров, что в свою очередь может усиливать тревогу, чувство неопределенности и пустоты, которые раньше заполнялись фигурой Отца или другими устойчивыми институтами.
Сегодня Искусственный Интеллект выполняет задачи ранее недоступные человеку, он способен анализировать огромные объемы информации с высокой скоростью и точностью, что превосходит человеческие возможности, эффективно выполняя повторяющиеся и однотипные операции, освобождая человека для более творческой и сложной работы. Он приводит к появлению цифровых платформ, которые начинают заменять традиционные институты, вызывая изменения в обществе и экономике. При этом Искусственный Интеллект не обладает интуицией и эмпатией, которые являются прерогативой человека и важны для принятия решений в неопределенных ситуациях, он не обладает истинной креативностью и эмоциональной глубиной, присущей человеку.
В итоге на вопрос, может ли Искусственный Интеллект стать Другим в цифровую эпоху, нельзя дать однозначный ответ. С одной стороны, он порождение человеческого знания, а с другой — потенциально чуждый Другой, способный занять позицию господина. Субъект в этих условиях претерпевает трансформации: классические неврозы, строившиеся вокруг конфликта с отцовским законом, сменяются новыми форматами тревоги — страхом, быть недостаточно совершенным по меркам машины, или напротив, страхом перед всеведущим цифровым надзором. В любом случае наши отношения сИскусственным Интеллектом, возвращают нас к фундаментальным вопросам: что делает нас людьми, как формируется наше Я через Другого, и какой Закон — человеческий или машинный — будет определять наши желания в будущем? Только время покажет, станет ли искусственный интеллект новым «Отцом» или же послужит катализатором для переосмысления самой природы субъекта в цифровую эпоху.
С одной стороны, искусственный интеллект уже фактически выступает для многих людей источником знаний и решений, обладая при этом качеством непредвзятости (по вере пользователя) и огромной базой данных. Поиск в Google, ответы Siri или консультации чат-ботов — все это примеры обращений к некоему внешнему Предположительно Знающему Другому. Люди спрашивают у машин: «что правильно?», «как поступить?», «что это означает?» — подобно тому, как раньше могли бы спросить совета у мудрого старшего или священника. Разница в том, что машина не обладает явной субъективностью, она воспринимается как объективный представитель истины. В результате вокруг технологий ИИ формируется своего рода аура авторитета: многим кажется, что алгоритм знает лучше, потому что лишен человеческих слабостей. Например, уже существуют системы искусственного интеллекта, рекомендующие решения в правовой сфере, медицине, управлении — и людям свойственно приписывать им непредвзятость и справедливость, ожидая, что «умная машина» вынесет более верный вердикт, чем человеческий судья или эксперт. В психологическом плане можно сказать, что субъект переносит свои бессознательные ожидания о всезнании не на отца или Бога, а на сеть и алгоритмы. Отчасти это подкрепляется и самим опытом: цифровые сервисы действительно могут «угадывать» наши желания (скажем, рекомендательные системы предвосхищают интересы пользователя) или замечать отклонения (системы безопасности указывают, что мы делаем не так). Возникает ощущение присутствия некоего всевидящего ока алгоритма, наподобие того, как раньше верили, что Бог-Отец наблюдает за каждым шагом.
Не случайно один из вопросов, встающих перед ИИ-технологиями в психологии: «Может ли машина заменить психолога или психоаналитика?». Если да, то значит ли это, что машина способна занять место Другого — предположительно знающего, которому человек открывает свою душу, как ранее аналитикам и священникам? Практика показывают, что люди порой предпочитают довериться алгоритму, считая его более объективным и лишённым человеческих предрассудков. Тем самым ИИ в роли консультанта или наставника обретает черты Символического Отца предположительно справедливого.
С другой стороны, можно сомневаться, способен ли искусственный интеллект по-настоящему заменить собой функцию Имени Отца. Классический символический Отец — это не только источник знаний или запретов, но и носитель смысла. Фигура отца (или иная авторитетная фигура) была уважаема не просто за информацию, а за моральный авторитет и включенность в цепочку поколений и традиций. ИИ пока лишен собственного желания, истории, бессознательного, он не является участником человеческой драмы поколений. Его авторитет носит технократический характер и ограничен тем, чему его обучили. Поэтому отношение к рекомендациям или решениям ИИ во многом утилитарное: мы ценим их за удобство и точность, но можем не воспринимать как экзистенциальный закон. Например, ребенок может слушаться виртуального ассистента в учебе, но в вопросах жизненных ценностей все равно ищет эмоционального участия родителя или наставника-человека. Более того, осознавая, что ИИ — творение человеческих программистов, общество может видеть за фасадом «всезнающей машины» других людей и их интересы. Это подрывает возможность настоящей сакрализации ИИ в роли нового Отца: слишком уж явно он создан и обслуживается нами же. Там, где символический Отец опирался на миф или веру (в божественное право, в традицию предков), ИИ опирается на алгоритм и данные, которые рационально объяснимы.
Тем не менее, трансформация субъекта под влиянием ИИ происходит. Даже если искусственный интеллект не станет полным аналогом отцовской фигуры, он меняет условия, в которых формируется современный субъект. Во-первых, повсеместная цифровизация создает эффект постоянного наблюдения и оценки: отчисляются рейтинги, лайки, отзывы, системы распознавания лиц. Это может выступать новым видом суперэго, где вместо внутреннего голоса совести человека направляет внешний поток данных о нем и реакций сети. Субъект начинает соотносить свои поступки с тем, «как они выглядят» для цифрового окружения, подобно тому, как раньше ориентировался на мнение семьи или общества. Во-вторых, возникает феномен рассеянного Большого Другого: авторитет распределен между множеством систем — от поисковика до социальных платформ — и субъект формирует свою идентичность через отклик этих систем.
Зачастую ИИ выполняет роль своего рода зеркала, на который проецируются запросы и фантазмы людей. Субъективность уже трансформируется под влиянием цифровой среды, идет формирование своей идентичности через взгляд цифрового Другого — социальные сети, метрики лайков, комментарии, общую «оценку» онлайн-сообщества. Молодое поколение стремится соответствовать нормам и трендам, заданным в цифровом дискурсе, зачастую сильнее, чем требованиям реальных родителей. Тут нет единичной фигуры Отца, но есть алгоритмический Другой, который как бы утверждает: «я вижу тебя, я реагирую на тебя». Отношения с знанием фундаментально меняются: больше нет ощущения, что кто-то (родитель или учитель) «знает все». Вместо этого знание фрагментировано и доступно на запрос — субъект привыкает, что истина дается по частям из Интернета, что ставит под сомнение единый непререкаемый принцип.
С другой стороны, если ориентироваться только на предписания ИИ, человек рискует утратить собственную способность к критическому суждению и желанию. Как заметил Славой Жижек, «проблема будущего взаимодействия с умными машинами не в том, что люди перепутают чат-ботов с реальными людьми, а в том, что люди сами начнут говорить и думать как машины — упрощенно, буквально, теряя воображение и спонтанность». Если алгоритмический Большой Другой установит свои стандарты коммуникации, может осуществиться перевёрнутая эдипова сцена: уже не сын убивает отца, а «машина убивает человека в человеке», вытесняя человеческое несовершенство машинной рациональностью.
Жижек задаётся вопросом: «Станет ли Большой Другой реальным, а не просто виртуальным агентом? Что, если ИИ разовьет нечеловеческое сознание — радикально новую форму самосознания? Его абсолютная несоизмеримость с нами может спровоцировать тревогу. И возникает вопрос: «Чего хочет Искусственный Интеллект?«».
Действительно, классический Отец (будь то реальный родитель или бог) в некотором смысле всегда был воображаемым — его власть держалась на вере субъекта. Но сверхразумный ИИ, обладающий собственной волей или целеполаганием, мог бы стать буквальным Большим Другим — практически богом ex machina, не зависящим от человеческой веры. Это уже не просто символ, а автономный участник реальности, чьи намерения нам неизвестны. Такая перспектива породила бы у субъекта страх сравнимый с психотическим переживанием чужого волевого вторжения. Появление Большого Другого, которого нельзя ни понять, ни символически «убить», может возродить древний ужас перед всевидящим богом или судьбой.
Можно сказать, в эпоху ИИ растет усиление зависимости от внешних информационных структур и ослабление внутренне усвоенного авторитета. Негативным проявлением этого может стать отсутствие единых ориентиров, что в свою очередь может усиливать тревогу, чувство неопределенности и пустоты, которые раньше заполнялись фигурой Отца или другими устойчивыми институтами.
Сегодня Искусственный Интеллект выполняет задачи ранее недоступные человеку, он способен анализировать огромные объемы информации с высокой скоростью и точностью, что превосходит человеческие возможности, эффективно выполняя повторяющиеся и однотипные операции, освобождая человека для более творческой и сложной работы. Он приводит к появлению цифровых платформ, которые начинают заменять традиционные институты, вызывая изменения в обществе и экономике. При этом Искусственный Интеллект не обладает интуицией и эмпатией, которые являются прерогативой человека и важны для принятия решений в неопределенных ситуациях, он не обладает истинной креативностью и эмоциональной глубиной, присущей человеку.
В итоге на вопрос, может ли Искусственный Интеллект стать Другим в цифровую эпоху, нельзя дать однозначный ответ. С одной стороны, он порождение человеческого знания, а с другой — потенциально чуждый Другой, способный занять позицию господина. Субъект в этих условиях претерпевает трансформации: классические неврозы, строившиеся вокруг конфликта с отцовским законом, сменяются новыми форматами тревоги — страхом, быть недостаточно совершенным по меркам машины, или напротив, страхом перед всеведущим цифровым надзором. В любом случае наши отношения сИскусственным Интеллектом, возвращают нас к фундаментальным вопросам: что делает нас людьми, как формируется наше Я через Другого, и какой Закон — человеческий или машинный — будет определять наши желания в будущем? Только время покажет, станет ли искусственный интеллект новым «Отцом» или же послужит катализатором для переосмысления самой природы субъекта в цифровую эпоху.
Выводы
Из вышеизложенного можно синтезировать ключевые различия между аутизмом и психозом в лакановской перспективе:
- Отношение к Другому: Психотик страдает от Другого (вторжение голосов, идей). Аутист же избегает Другого, стараясь устранить саму ситуацию, в которой Другой чего-то от него хочет. Аутичное поведение не адресно - ребенок взаимодействует с вещами или частями другого, но не с целостной личностью.
- Форклюзия: При психозе форклюзировано Имя-Отца, но язык как система сохраняется. При аутизме же, как предполагается, форклюзирован сам «принцип символизации». Субъект отказывается от символического обмена в самом начале. Отсюда метафора: «аутисты — это психотики, которые сделали выбор не говорить». Хотя эта фраза упрощает, она указывает на суть: для аутиста речь без коммуникации — это стратегия избежать поглощения Другим.
- Проявления Реального: Психотическое Реальное носит характер интрузий (галлюцинации, ощущения воздействия), которые персонифицируются («они на меня воздействуют»). Аутичное Реальное — это скорее перегрузка от стимулов, наводнение ощущениями без персонификации. Аутист просто закрывается от любого воздействия в целом.
- Символические компенсации: Психотик строит бредовую систему, стремясь восстановить осмысленный порядок. Аутист создает индивидуальный порядок из предметов и ритуалов, который экзистенциально функционален, но не претендует на разделяемый другими смысл.



